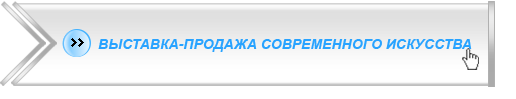Современные художники
Регистрация/Вход
Авторов онлайн
НикакойГостей онлайн
Сейчас 797 гостей онлайн
Красный конь Петрова-Водкина |
 Автор:
Автор: Павел Ин.
| Истории о великих художниках - Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич |
| 22.04.2014 13:14 |
|
В ту пору не было другого молодого человека, который умел бы учиться так, как художник Петров-Водкин. Друзья по студии мчались в Париж за мстительной европейской известностью. Он и в Париже учился. Начинал мальчиком в старообрядческих скитах под Хвалынском, учился у старцев, что писали иконы, подделываясь под строгость потемневшей древности. Его школа была в Самаре и в мастерской вывесок. Он учился в Петербурге, в Москве, в Мюнхене, в Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, в Париже. Он учился у провинциала Бурова, у барона Штиглица, у слащавого Семирадского и строгого Касаткина, у Валентина Серова и Александра Иванова, а также у немцев Бёклина, Штука, Ленбаха, а также у итальянцев Джотто, Мазаччо, у великих Рафаэля и Леонардо да Винчи, а также у французов — и тех, кто были классики, и тех, кто сотворил новое искусство, у Матисса, Тулуз-Лотрека, Гогена, Сезанна, Ван-Гога и даже у Пювиса де Шаванна. Когда неизвестный русской публике художник Петров-Водкин вернулся из Парижа, он первым делом направился в дом Александра Бенуа. Бенуа не только был умным и значительным человеком, не только знал все русские художественные течения и начинания — он умел влиять на общественное мнение, а значит, и на судьбы художников: мог возвысить, а мог и замолчать. Бенуа не принял незнакомца. У того было чересчур русское имя и совсем уж русская фамилия. Не к столу, за которым приобщались к тайнам мысли, пришелся Кузьма да Сергеевич да Петров-Водкин... Помог редактор журнала «Аполлон». Он организовал выставку; и оказалось, что Петров-Водкин именно тот художник, какого хотела публика. Он дал ей «Элегию», «Берег», «Сон», греческие фигуры, играющих мальчиков. Это были годы, когда русская интеллигенция увлекалась таинственным, потусторонним, невероятным и непостижимым. Реалисты его прокляли, салонные художники вместо объятий вежливо раскланивались и смотрели выжидающе. Это были тонкие люди, они чуяли в нем другое. Он тоже знал, что он другое, что он не подмастерье, не из какого-то там салона, а мастер. И он еще не написал полотна, которого от него ждали. И ведь сам он ждал — и был несчастлив... Близилась очередная выставка «Мира искусств», от художника ждали новых чудес, но чудеса с неба не падают. Стоило взять кисти — и подступала к горлу тошнота, словно стол перед тобой ломится от всяческого мяса, а ты уже сыт через меру. Он жил по-столичному. В этом параде, где собеседники один другого бессмертнее: о том говорит Петербург, об этом Европа, мир. Он слушал разговоры и сам говорил — тонко, уверенно: — Я думаю, что живопись, полагающая смысл в неорганизованном предмете, становится натурализмом. Предмет изолированный, предмет вообще не есть сюжет живописи. Это он говорил, а думал — о лошадях. Чем безнадежнее метался, тем чаще приходила мысль написать деревню. Написать детство. В детской искренности было спасение от книжной мудрости, от красот Греций и Франций, от изощренности и презрительности столиц. Мастерство тяготило. Он умел так сталкивать цвета, что они бросались друг на друга с криком, они орали, они боролись, а зритель глядел на этот разбой и не мог наглядеться. Он умел так сталкивать цвета, что они «жили ласково один возле другого», а зритель глядел на них в спокойствии и не мог наглядеться. Мастерство требовало выхода, но достойного, под стать себе. Нужно было написать простое, такое же знакомое каждому, как «Ну пошел же, ради бога!», но и значительное. — Форма и цвет, объемлющий эту форму, и есть живопись. Существует два способа ее создания, дополняющие друг друга: декоративность и психологичность изображаемого. Вместе они составляют искусство образа. Вся ответственность ремесла живописи в том и заключается, чтобы уравновешивать эти две стороны. Он говорил это кому-то, а про себя вел другой разговор. Вспоминалось: — ...И с чего бы это, поджигать-то? Злобу какую надо, чтоб взять и поджечь дом хороший! — Подожгли. Я за порог, шагов сто не прошел — и на тебе! Из-под крыши как махнет! — Уезжать надо с места. — А куда ты поедешь? Тут ведь обжитое... Спасибо — днем, ночью б если — не выскочить. — Икону-то вынесли? — Старик держал. «Неопалимая Купина» — она и помогла, заступница. Дом-то полымем не тронуло. Крыша сгорела, а дом цел. Эх, кинулось бы на сараи! Там — сено. У меня ведь много сена было. Всюду наторкано. Кормил скот кое-чем, лучшее продавать собрался. Лошадку хотелось... Родные хвалынчане. Знакомое — пустить «красного петуха» человеку своему же, да больно гордому — лучше других захотел жить. Этих ли, осудив, а может, простивши, предать холсту на общий человеческий суд? И другое встает перед глазами: Волга-река, старушка со стариком. Сидит старушка на бережку, а старик позади стоит. И смотрят на воду, на зеленое Заволжье, на облака плывущие и на лодку, плывущую под облаками. Час смотрят и другой. До самой тьмы смотрят на свою Волгу. Какой правде честь? Одна правда — горькая правда суеты сует, другая — высокая, извечная. Те — хвалынчане, эти тоже хвалынчане. Знал: минута близилась. Он ждал ее и боялся: коль не дозреет в сердце — не тем, ради чего живут художники, станет картина. Своим талантом Кузьма Сергеевич распоряжался хозяйственно. Он не хотел распродать товар по осени, быстро и с прибылью, он хотел за него бешеного барыша весной, когда фрукт вылежался, вобрал свежие запахи снега и сохранил томительность осени, когда время вызолотило его, соки расперли кожу: съешь сегодня — на седьмом небе, завтра он никуда не годен, в отброс. Решил писать купание коней. Что может быть лучше? ...Волга потерялась среди звезд. Пахнет большой, сильной водой. С меловых гор, согретых за долгий день, скатываются потоки вязкого воздуха. Он густ и так усердно настоян на мяте, что во рту холодит, будто съел пряник. Далеко где-то, может, в пропасти, а может, на черном небе, среди теплой тьмы горит смелый костерок. Огонь выкрадывает у мрака лошадей, и они, рыжие, пламенеют, настороженно вглядываясь в ночь, а когда огонь отступает, грезят и жуют. Лошади, костер, река. А вокруг, сверху и снизу — мир с добрым человеческим сердцем. Тук-тук-тук... Ночное... Пытая судьбу, пробует художник спугнуть прекрасное. Живет в Хвалынске мещанин. Заморил жену, ушел к старухе, у той дом большой, сад огромный, полон двор скотины, работников держит. Зазвал Водкина в погреба, заставленные кадками с мочеными яблоками, и угостил четвертушкой: разрезал яблоко на четыре части и угостил долькой. На бесшабашной Руси этакая букашка! Он тебе в глаза глядит, а ты за него краснеешь. О конях ли думать? О конях! Кони, кони, никуда теперь от вас не деться! ...И картина была написана. Рыжая лошадь косила огромным белком на зрителя. Голый мальчик чистил гриву, другой, постарше, сидел на ней, натягивал повод. На втором плане художник разместил фигуру взрослого парня, который тянет лошадь к себе. Лошади не видно, смутная фигура подгоняет эту невидимую лошадь, а еще один мальчишечка выезжает вдали на берег. Река невероятная разлилась, вдали по горизонту громоздятся то ли скалы, то ли чудовищные деревья. День прошел — радовался картине. На другой — задумался. Через неделю ходил тучей. Это было не то. Это было то, чего боялся Петров- Водкин. Картина, которая на земле ни прибавила, ни убавила... Недаром, когда работа подходила к концу, вспоминался старый иконописец из Черемшанских скитов. Он писал фигуры святых и ни разу не осмелился прорисовать лик. Лики для его икон творили другие живописцы. Это мучило старика и замучило: с ума сошел. Кузьма Сергеевич писал портрет не хуже телес, а вот робость жила- таки в нем. , Он глядел на свою картину — и всякий раз она озадачивала какой-то неприятностью. Не было в картине спокойствия и доброты, не было отблеска ночного костра над Волгой, не было в ней детства, и мужества не было. Может, неудача в том, что писана вещь с оглядкой на темноту жизни? Когда хочешь написать высокое, надо думать о высоком, надо верить в него беззаветно! В эти трудные дни пришло счастливое письмо от Казариной, почитательницы художника, женщины богатой и со вкусом. Она помогала Кузьме Сергеевичу во время учебы деньгами, а теперь — выгодными заказами. Казарина писала, что приобрела несколько икон работы новгородских и московских мастеров XIII—XV столетий, просила посмотреть коллекцию... Они встретились, наконец,— Петров-Водкин и Красный конь. Это был конь Георгия Победоносца. Хрупкий, тонконогий, он нес огромного всадника. Конь был изящен, как шахматная фигурка. Всадник — грозен и прямодушен, как его разящее копье. Бросило в жар, а в следующий миг наступило вдруг такое спокойствие, что стали холодными ладони рук. Русская икона, русский дух, откровенность и высота помысла, наивность и тончайшее мастерство — вот она, земля русского художника! ...Дома Кузьма Сергеевич без жалости, с легким сердцем разрезал «Купание коней» на куски. Поставил другой холст и начал заново. Он рисовал коня. Это был конь, который не простит нам и толики подлости; и на этом великом коне держался тоненький мальчик, не знающий скупости, гордыни и унижения. Вздыбил коня, и застыли они оба — то ли махнут в такие выси, о которых людям и подумать трудно, то ли останутся здесь, среди земного и человеческого. Новое рождение произошло. Художнику покорилась вершина, с которой открывалась Страна великих просторов, великих дум и торжествующего умения. Он создал то, о чем люди догадывались, но не знали, что это так близко. Так возьмите же, люди, это в свою жизнь! Сам он жил в Красном коне высоко, все дурное в человечестве не достигало его внимания, и человечеству было стыдно теперь хотя бы на один миг не почувствовать себя седоком величественного коня. Красный конь объявился вовремя. 1912 год! Вспомнили вдруг: есть на земле океан, горы, орлы, герои. Опомнились: стоит ли думать о смерти, когда сестра ее жизнь! Человечество не любит оставаться в долгу. Хорошо послужившим оно дает медали. Кузьме Сергеевичу Петрову-Водкину за «Красного коня» тоже дали тяжелую, большую, как медвежья лапа, бронзовую медаль. Но тут случилась война, картина затерялась где-то в Швеции, и нашли ее лишь сорок лет спустя. Может быть, оттого, что картина пропала, художник все думал о ней, и не раз выходили из-под его кисти красные кони. Не на земле и не на воде уже были они, а в небе. Ведь стоит человеку размечтаться — и глаза его там, среди звезд. Он жил, он был, тот Красный конь! И храбрый мальчик был! Сказали мальчику: — Вот конь, Но ты его не тронь! — Но мальчик полюбил коня, А страха он не знал. За гриву он что было сил Коня вдруг ухватил. И Красный конь, великий конь, Как вкопанный, стоял, Его мой мальчик обласкал И звонко ускакал. Не знаю, где тот Красный конь, Где храбрый мальчик тот. Ступай! Найди того коня — И ты себя найдешь! ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВ
Tags: ↓↓ Ниже смотрите на тематическое сходство (Похожие материалы) ↓↓ |

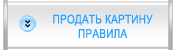








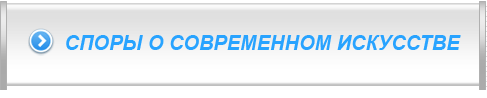
 Литературное творчество
Литературное творчество